Селим Хан-Магомедов: Дизайн в системе художественной культуры
Статья доктора искусствоведения Селима Омаровича Хан-Магомедова «Дизайн в системе художественной культуры». Публикуется по изданию: Журнал «Декоративное искусство СССР», 1987 г. — № 7. — С. 42—44.
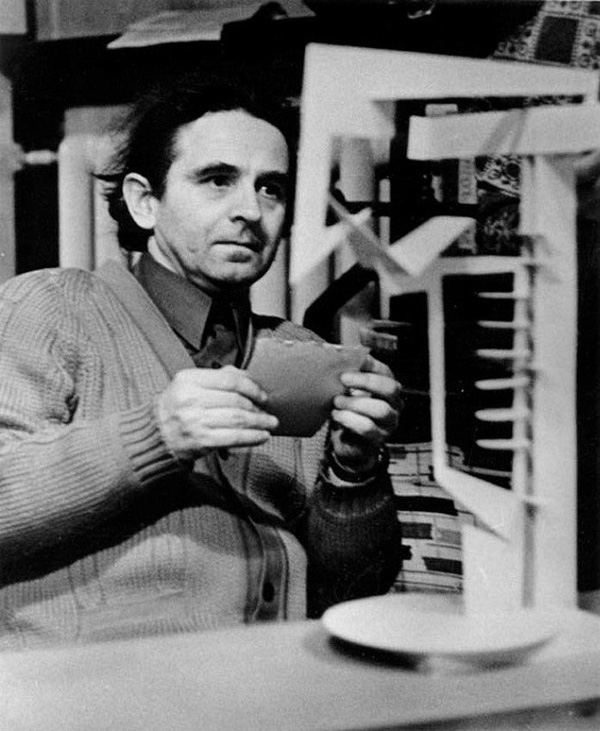
- К предыстории современных проблем
- Поляризация формообразующих тенденций в дизайне
- Расширение эстетического пространства дизайна
- Проблема художественной преемственности
- Соотношение унификации и разнообразии предметно-пространственной среды
- Тираж, индивидуальное творчество и гибкая технология
Создание союза дизайнеров СССР резко обострило внимание к дизайну. Обнаружилось, что в этой сфере художественного творчества огромное количество проблем. Нет ясности и в самых общих вопросах: что такое дизайн? Какое отношение он имеет к искусству? Каковы границы сферы дизайна? А раз так, то у многих возникла потребность читать мораль и нотации деятелям сферы дизайна, поучать их, как себя вести, что делать и даже что думать. И вот уже в который раз на страницах нашей печати разворачивается дискуссия все на ту же тему: «Что есть дизайн и что с ним делать?» А может быть, перестать, наконец, размахивать доморощенными манифестами перед носом ошарашенных дизайнеров и спокойно и уважительно осмыслить те реальные процессы, которые протекают в нашем отечественном дизайне?
Прежде всего хотелось бы высказаться по вопросу о том, так ли уж плохо, что в дизайне в настоящее время, пожалуй, больше, чем в других видах художественного творчества, неразработанных теоретических проблем.
По мере развития той или иной сферы деятельности или науки в структуре связанных с ней научных дисциплин возрастает роль общетеоретических проблем. И чем более осознается в данной области деятельности роль теории, тем большее нетерпение проявляется к срокам и масштабам разработки теоретических проблем. И это понятно — очень хочется, чтобы в кратчайший срок были разработаны устраивающие всех основы теории данной деятельности, которые «раз и навсегда» прояснили бы все или почти все теоретические проблемы.
Опыт истории становления дизайна свидетельствует, что на каждом этапе на первый план выходила группа лидирующих проблем, состав которой определялся конкретно-историческим социальным заказом эпохи. На этапе становления советского дизайна (20-е годы) это были социально-этические проблемы, в период возрождения отечественного дизайна (60-е годы) — утилитарно-технические. В последние годы все большее внимание привлекают социокультурные проблемы и художественные проблемы формообразования. Неразработанность именно этих проблем сдерживает в настоящее время творческие поиски. Важное значение приобрело на современном этапе исследование вопросов истории дизайна, прежде всего отечественного. Это необходимо и для укрепления профессионального самосознания дизайнеров (дизайн, пожалуй, единственная область художественного творчества, которая не имеет написанной истории), и для выявления целого ряда общих закономерностей формирования предметно-пространственной среды, отвечающей потребностям человека в конкретных исторических условиях.
К предыстории современных проблем
Сейчас все озабочены состоянием художественного уровня окружающей человека предметно-пространственной среды — и широкая общественность, и сами деятели художественной культуры. Одна из важных причин сложившейся ситуации — это характерная для последних десятилетий рассогласованность в формообразующих процессах различных видов пространственных искусств. Особенно разителен разрыв между изобразительным искусством и основными видами предметно-художественного творчества — архитектурой и дизайном. Причем, если изобразительное искусство и архитектура в последнее время проявляют активность в области установления более тесных творческих контактов, то дизайн в нашей стране до сих пор не включен органично в систему художественной культуры.
А между тем опыт развития мирового дизайна в XX веке убедительно свидетельствует, что без активной роли дизайна нельзя создать полноценную в художественном отношении предметно-пространственную среду для труда, культуры, быта и отдыха.
Важно напомнить, что появление дизайна как новой сферы художественного творчества в первой трети XX века было связано с реальным социальным заказом, возникшим в ситуации, когда в вопросах формообразования и стилеобразования в предметно-пространственной среде все нагляднее проявлялась рассогласованность. С вытеснением промышленностью ручного ремесла многие виды продукции массового потребления уже в конце XIX века оказались вне влияния профессиональных художников. В результате между самостоятельно развивавшимися на протяжении ряда десятилетий стилеобразующими тенденциями в художественной и инженерно-технической сферах образовался разрыв, создалось некое нейтральное формообразующее пространство, ставшее питательной почвой для появления различного рода внепрофессиональных устремлений и малохудожественных изделий. Вот тогда и возник реальный социальный заказ на принципиально нового художника-профессионала, который мог бы квалифицированно работать на этом стыке между художественной и инженерно-технической сферами творчества, восстановить связь между ними, превратить эту промежуточную область из рассадника дурного вкуса в важнейший источник стилеобразующих идей. На этом стыке и сформировался в первой трети XX века дизайн.
Наша страна в 20-е годы внесла важнейший вклад в формирование мирового дизайна. Этот вклад признается всеми серьезными историками искусства. Однако формирование советского дизайна имело свою специфику. В отличие от западноевропейских стран, где появление дизайна в первой трети XX века стимулировалось прежде всего стремлением промышленных фирм повысить конкурентоспособность своих изделий на мировом рынке, в нашей стране возникшее после Великой Октябрьской революции производственное искусство носило ярко выраженный социально-художественный характер. Художники (пионеры советского дизайна) как бы от имени и по поручению нового общества формулировали социальный заказ промышленности.
На этапе становления советской художественной культуры через рождавшийся тогда дизайн и новаторские течения архитектуры, как через своеобразный канал, в предметно-пространственную среду вошел фактор рационализации, определивший многое в новом отношении художника к качеству среды обитания.
Однако в 30-е годы под влиянием изменения общей направленности в предметно-художественном творчестве (ориентация на освоение наследия прошлого, декоративистские тенденции) проявились и постепенно стали усиливаться тенденции расслоения сферы дизайна на инженерно-техническую, предметно-бытовую и художественно-оформительскую области, развивавшиеся на основе различных концепций формообразования.
В результате дизайн как комплексная художественная сфера творчества более четверти века не проявлял себя активно в нашей художественной культуре.
Поляризация формообразующих тенденций в дизайне
На следующем этапе, в 60—80-е годы, в советском дизайне постепенно сложилась своеобразная творческая ситуация, специфическая, пожалуй, именно для нашей страны. Творческое направление, связанное с индустриальным ядром дизайна, оказалось полемически противопоставленным художественно-оформительской сфере. Исторически это объяснимо.
На этапе своего второго рождения, в 60-е годы, советский дизайн опирался в формообразующих процессах прежде всего на инженерно-техническую область и частично на предметно-бытовую, тесно связанную с архитектурой, где в этот период тоже происходила смена творческой направленности. Сложнее шла творческая перестройка в художественно-оформительской области, на стыке с изобразительным и декоративным искусством. Изобразительное искусство весьма настороженно относилось и относится к формообразующим процессам в дизайне, и взаимоотношения этих двух сфер творчества до сих пор так и не налажены. Декоративное искусство в 60-е годы пыталось наладить связи с дизайном. Затем, в 70-е годы оно переживало экспериментальный бум, испугавший своей раскованностью в формальных поисках некоторых приверженцев рационализации формы в дизайне. Все это сказалось на художественно-оформительской области, тяготеющей к изобразительному и декоративному искусству.
В результате ни в 60-е, ни в 70-е, ни даже в 80-е годы так и не удалось до конца преодолеть расслоение сферы дизайна. Но, в отличие от 30-х годов, когда произошло это расслоение, сейчас иная ситуация: индустриальная область дизайна оказалась как бы противопоставленной художественно-оформительской. Причем если первая тяготеет к рационально-аскетической стилистике, то вторая — к откровенному декоративизму.
Парадокс состоит в том, что области эти концептуально не сближаются, а даже наоборот — их противостояние обостряется: чем упорнее настаивает индустриальная область дизайна на рациональных импульсах формообразования на базе выявления функционально-конструктивно-технологической структуры изделия, тем раскованнее ведутся формально-эстетические поиски в художественно-оформительской области. Возникает вопрос: чем объясняется такая поляризация формообразующих тенденций и связаны ли они каким-либо образом между собой?
Внимательный анализ позволяет выявить взаимозависимость процессов формообразования в рамках этих двух основных творческих концепций. Оказывается, обе они, полемизируя друг с другом, одновременно создают этим определенное творческое равновесие в широко понимаемой сфере дизайна. Стоит, например, в индустриальной области усилиться организационно-техническим тенденциям, как в художественно-оформительской области усиливаются декоративистские тенденции, восстанавливающие нарушенное равновесие. Видимо, в образном строе любого вида художественного творчества в целом должно быть некое равновесие: не в каждом конкретном произведении и даже не в отдельном жанре, а во всей данной сфере художественного творчества.
Но дело не только в поляризации тенденций формообразования в дизайне. За годы творческой полемики представителей различных концепций сформировались во многом отрицающие друг друга критерии художественной оценки, наметилась опасность формирования двух моделей дизайна, что может еще больше обострить профессионально-творческую ситуацию.
Сейчас необходимо всем, кто причастен к формированию предметной среды, осознать общую ответственность за повышение её художественного уровня. В разнообразии теоретических поисков, в их огромном диапазоне,— от рационально-технологических до откровенно-декоративистских — надо видеть не столько противостояние, сколько потенциальные возможности расширения творческой палитры дизайна.
Расширение эстетического пространства дизайна
Дизайн, сформировавшись первоначально как ограниченная по охвату сфера предметно-художественного творчества, в последующем интенсивно раздвигал свои границы, во-первых, за счет расширения «своей территории», а во-вторых, включая в свои профессионально-творческие методы приемы смежных видов творчества. И в том и в другом случае, чтобы освоить новое эстетическое пространство, дизайну были нужны интенсивные поиски в области художественной формы. И чем дальше от индустриальной области дизайна, тем сложнее должна была быть образная структура его произведений, тем более развитой — художественно-композиционная система средств и приемов выразительности и нестандартнее подход к вопросам формообразования. Однако нередко к периферийным областям дизайна подходят с мерками, которые отработаны для оценки формообразующих процессов в индустриальной области дизайна. А это в условиях современной проблемной ситуации в предметной среде объективно мешает расширению эстетического пространства дизайна.
Архитектура и дизайн сейчас почти не расширяют своё эстетическое пространство. В 30—50-е годы эстетическое пространство дизайна было резко сужено (до индустриального ядра), затем оно бурно расширилось, но сейчас этот процесс почти остановился, а в отдельных областях дизайн даже сдает свои позиции. И это отрицательно сказывается на художественном уровне современной предметно-пространственной среды.
Перед дизайном сейчас стоит задача, укрепляя индустриальное ядро, смелее расширять свое эстетическое пространство. Не включать в свою сферу чужое, а именно расширять свое, отвоевывая его, если возникает такая необходимость, у декоративно-оформительских областей, которые на стыке с дизайном агрессивно расширяют свое эстетическое поле.
Проблема художественной преемственности
Для любого народа художественная культура всегда была важнейшим звеном связи с предшествующими поколениями, гарантом преемственности. Причем предметная среда была самой массовой и общедоступной сферой обеспечения такой преемственности. Дизайн резко изменил ситуацию, во многом прервал преемственность в предметной среде. На рубеже XIX—XX веков внедрение в предметную среду новых форм вместе с промышленными изделиями воспринималось как отражение воодушевлявшего тогда всех научно-технического прогресса, а в 20-е годы слом художественной преемственности связывался и с процессами социальной перестройки жизни.
В 60—70-е годы, когда возрождение дизайна шло в нашей стране под флагом первоочередного решения функционально-конструктивно-технологических задач, проблемы художественной ценности предметной среды оказались оттеснёнными на второй план. Настрой на борьбу с эклектикой и традиционализмом в вопросах формообразования привел к недооценке вопросов художественной выразительности. Получилось так, что творческая преемственность интересовала дизайнеров лишь по отношению к наследию 20-х годов. Это в какой-то степени предохранило проблемы формообразования от полной ориентации на утилитарность. Сам факт активной разработки в 20-е годы художественных проблем формообразования позволил осваивавшим это наследие советским дизайнерам расширить перечень профессионально-творческих проблем, обратить внимание на проблемы художественной выразительности современной предметной среды.
И всё же интенсивное освоение зарубежного опыта привело к тому, что наш дизайн 60—70-х годов, как культурное явление, оказался по своим формально-стилистическим характеристикам,
во-первых, пожалуй, излишне эклектичным (в нем был причудливо перемешан опыт многих стран), а во-вторых, не связанным преемственно с отечественным художественным наследием. Короче говоря, он был и недостаточно оригинален (в ряду творческих школ современного дизайна) и не опирался на национальные традиции. Получилось так, что, активно борясь с традиционалистской стилизацией и стайлингом, мы в то же время оказались усердными приверженцами общей моды в области формообразования.
Такая излишняя стилистическая стерильность нашего дизайна повлияла на то, что художественная преемственность в нормировании предметной среды пошла как бы в обход дизайна, вызвав в декоративно-цветографическом слое предметно-художественного творчества усиление традиционалистски-стилизаторских тенденций. Дизайн вступил в конфликт с этой тенденцией в формообразовании, но сам воздерживается от активной разработки проблем художественной преемственности предметной среды. В многонациональной стране с богатым и разнообразным художественным наследием это безусловно осложняет процессы научно-теоретической и творческой разработки проблемы художественной выразительности современной предметной среды.
Соотношение унификации и разнообразии предметно-пространственной среды
Стандарт и унификация на протяжении тысячелетий использовались в художественной культуре как одно из самых сильных средств художественной выразительности. При ремесленном способе создания изделий и кустарных методах строительства сделать изделия или элементы зданий стандартными было значительно труднее, чем сделать их разнообразными. Сам факт сопоставления абсолютно одинаковых элементов и изделий производит сильное эстетическое впечатление, особенно в окружении разнообразных изделий. Достаточно привести примеры мраморных колоннад античных городов или аллей сфинксов в Древнем Египте. Когда появилась возможность машинным способом изготавливать стандартные изделия и архитектурно- строительные элементы, то это на первых порах воспринималось как благо. Стандартные промышленные изделия внесли в XIX веке свежую образную струю в стилизаторско-эклектичное разнообразие предметной среды и остро воспринимались на фоне традиционных кустарных изделий. Потенциальные художественно-образные возможности бездекоративных стандартных промышленных изделий и типовых зданий с унифицированными элементами были взяты в XX веке на вооружение художниками, архитекторами и пионерами дизайна при формировании нового стиля предметно-пространственной среды. Бездекоративные стандартные формы и элементы стали важной основой нового стиля и противопоставлялись как принципиально новое традиционной застройке городов и традиционной предметной среде.
Но постепенно накапливалась психологическая усталость от однообразия форм.
Она резко обострилась сейчас, в результате стандартизации предметной среды, которая все больше формируется изделиями промышленного производства.
Проблема однообразия и унификации современной предметно-пространственной среды вышла за пределы чисто художественных проблем. Она приобрела социокультурный, социально- психологический и даже просто психологический характер. Монотонное однообразие современных архитектурных комплексов угнетает. В связи с этим возрастает и существенно меняется роль дизайна в формировании полноценной в художественном отношении городской среды. Еще 15—20 лет тому назад в сформировавшихся в прошлом городских комплексах элементы дизайна своей новой, бездекоративной и стандартной формой способствовали художественному объединению разностилевых и разновременных элементов городской среды. Достаточно вспомнить, как остро и свежо воспринимались новые типовые киоски и новые стандартные вывески магазинов (типа «стиральная доска»), сменившие разнообразие ведомственных и фирменных киосков и вывесок.
Но когда эти же приемы городского дизайна были перенесены в новые жилые районы, художественный эффект унификации переменился па отрицательный. Улучшая функциональную структуру пространства новых жилых кварталов и решая задачи визуальной коммуникации, элементы городского дизайна стали к стандартному однообразию архитектурных объектов добавлять не менее стандартизированное однообразие городского оборудования и оформления. Монотонность художественного облика городской среды как бы удвоилась.
Возникли обширные городские территории, целиком состоящие из объектов новой архитектуры, причем, пожалуй, никогда в прошлом потенциал монотонности единовременной застройки не был так высок в архитектуре, как сейчас. И чем больше масштабы застройки, тем сильнее ощущается психологическое давление этой монотонности.
Сейчас все больше осознается, что художественно-образные особенности архитектуры требуют от городского дизайна широкого использования контрастных приёмов и средств художественной выразительности. Дизайн интенсивно отрабатывает такие приемы. Поиски идут в различных направлениях. Это и использование инженерно-технических структур и элементов (хайтек), и широкое применение цвета, и внедрение криволинейных форм, и многое другое.
И такие приемы дают эстетический эффект. Многие из них широко используются зарубежными дизайнерами. Достаточно, например, сравнить роль в облике новой застройки Москвы нейтральных по формам и стандартных киосков, и напоминающих яркие детские игрушки югославских киосков, и киосков «пепси-кола».
Тираж, индивидуальное творчество и гибкая технология
На протяжении истории человечества в материальной культуре всегда что-то тиражировали, но одновременно с этим предметная среда интенсивно пополнялась индивидуальными вещами. Дизайн всех пугает тиражированностью. В связи с этим возникает два вопроса: 1) Что действительно смущает в дизайне — сама тиражность художественной формы изделий или машинность этой формы, и в какой степени? 2) Стандартный тираж художественной формы изделия — это неизменная закономерность формообразования в сфере дизайна или определенная технологическая стадия?
Вопросы эти тесно связаны как с перспективами развития творчества дизайнера, так и с местом и ролью в нем индивидуально-авторского начала.
Некоторые современные процессы в организации проектирования и в производстве промышленных изделий вроде бы свидетельствуют о преобладании тенденций сокращения сферы индивидуально-авторского в творчестве дизайнера и расширении практики стандартного тиражирования. Эти тенденции положены в основу целого ряда творческих концепций в дизайне. Некоторые наши дизайнеры убеждены (и пропагандируют это в печати), что сфера индивидуально-авторского сужается за счет коллективного творчества, что дизайнер будет во все большей степени переключать свое внимание с художественно-образных на социально-организационные проблемы.
Дизайн оказался сейчас в очень сложной ситуации. Справедливо претендуя на роль художественной творческой деятельности, он оказался встроенным в ту часть материальной культуры, где в методах создания изделий преобладает тенденция замены человека машиной.
А между тем еще на заре становления советского дизайна сторонники производственного искусства, провозглашая идею связи искусства с производством, видели ее воплощение на практике в том, что каждый рабочий на своем рабочем месте в процессе изготовления промышленного изделия участвует в создании его красоты. Дизайнер проектирует изделие, а в создание его красоты вносят свой вклад все, кто участвует в процессе его изготовления.
Но чтобы участвовать в создании художественной формы изделия, каждый причастный к процессу его изготовления должен иметь определенную долю самостоятельности по отношению к этой форме. В условиях современного поточного производства это исключено. Рабочий не создает красоту, а тиражирует художественную форму, созданную другим.
На каком-то этапе бурного развития промышленной технологии и поточного производства стала преобладать тенденция не только отключения рабочего от активного влияния на художественный результат процесса изготовления изделия, но и резкого сокращения свободы действия дизайнера в варьировании художественной формы. Жесткая технология производства действительно ставила дизайнера в узкие рамки при создании художественной формы изделий.
На этой стадии развития технологии сформировались концепции, ориентированные на уменьшение роли индивидуального в творчестве дизайнера и на переключение его внимания с художественно-образных проблем на социально-организационные.
Но то, что в последние годы происходит в области промышленной технологии, свидетельствует о том, что принятие характерных для жесткой технологии тенденций в качестве перспективных было преждевременным.
Сейчас уже всем ясно, что будущее за гибкими автоматизированными производствами, где роботы-манипуляторы через систему электронного управления можно быстро перенастраивать на различные виды операций. Автоматические манипуляторы — это принципиально новый тип оборудования, способный перестраиваться для выполнения различных операций.
Бум внедрения в производство промышленных роботов (начавшись в Японии, затем и в других странах) набирает темпы.
Они используются в автомобильной промышленности, при производстве холодильников и т. д.
Пока промышленные роботы сами еще не адаптируются в непредвиденных обстоятельствах, а лишь выполняют заложенную в них программу. Но следующее поколение автоматических манипуляторов освоит и это, их научат адаптироваться. Роботы-манипуляторы будут способны видеть, осязать, принимать решения в неожиданной ситуации. Сфера их применения будет все время расширяться. Наука в этом смысле не имеет пределов — в конечном счёте роботы превзойдут по чувствительности все человеческие органы чувств. Микроэлектроника позволит очень многое; новые устройства будут свободны от биологических ограничений человека, как современная техника уже давно многократно превзошла физические возможности человека.
Видимо, появится еще не одно поколение все более чувствительных роботов. Поточные производственные линии будут становиться все малолюднее — там останутся настройщики ЭВМ и программисты. Короче говоря, современная промышленность развивается в направлении к такой организации производства, при которой человек не будет участвовать в создании самих изделий. Процессы автоматизации и компьютеризации захватывают не только сферу производства, но и область проектирования. Быстро прогрессирует система проектирования с использованием дисплеев, когда конструктору и дизайнеру не надо вручную делать модель, чертить схемы и рисовать на бумаге эскизы. Проектировщик все корректирует на дисплее, и техническое устройство выдает ему варианты объемных моделей (голография или реальная модель), все профили и разрезы, все точки зрения на изделие или комплекс.
Значит, в этом случае не только рабочий не участвует вручную в создании художественной формы промышленного изделия, но и сам дизайнер не создает рукотворных проектов в виде рисунков, чертежей и моделей. Робототехника овеществляет творческую мысль дизайнера, реализует не его рукотворный проект, а именно творческую мысль.
Какие последствия все это имеет и будет иметь с позиций дизайна? Что меняет такое внедрение новой техники в процессы производства и проектирования промышленных изделий в самом подходе дизайнеров к созданию художественной формы? Рукотворность действительно уходит в прошлое даже из сферы проектирования. Но есть ли основания волноваться по этому поводу и считать, что новая техника вытесняет творца из процесса создания вещи?
Сейчас некоторые наши концептуалисты тоскуют по рукотворной, так сказать, «шершавости» элементов предметной среды, видя именно в ней некий идеал причастности мастера к созданию вещи, авторскую роль художника.
Проблема действительно существует, и просто так от неё не отмахнуться.
Трудности в проявлении индивидуального творческого почерка дизайнера в процессе создания художественной формы промышленного изделия в условиях жесткой технологии в немалой степени способствовали тому, что потенциальные возможности повышения разнообразия предметной среды стали видеть прежде всего в увеличении в ней количества рукотворных изделий. И на первых порах внедрение новейшей техники в процесс проектирования воспринималось как покушение на последний очаг рукотворности в сфере дизайна. И возникали вопросы: если в сфере дизайна даже процесс проектирования технизируется, то творчество ли это вообще? Может ли вообще существовать такое художественное творчество, которое не оставляет рукотворных следов даже в виде проектов?
Думаю, что наша теория дизайна и методика художественного конструирования опоздали с углубленным освоением художественно-творческих последствий внедрения гибкой технологии в производство и новейшей техники в процесс проектирования.
Мы, ориентируясь на предыдущий этап развития технологии производства, продолжаем убеждать дизайнера, что технология ставит жесткие рамки художественной форме и что будущее дизайна — это уменьшение индивидуального вклада дизайнера в ее создание. Сейчас же, учитывая новую проблемную ситуацию, необходимо еще раз внимательно проанализировать перспективные тенденции в художественных вопросах формообразования.
Будущее дизайна не в рукотворности, а в новой автоматике как на стадии проектирования, так и на стадии производства.
Появление гибкой технологии и роботов-манипуляторов вносит принципиальные изменения в сам процесс формообразования в сфере дизайна. В традиционной схеме путь от образной идеи художника до выполнения ее в реальной вещи был связан со многими стадиями, включающими проектирование, макетирование и т. д. При новой технике дизайнер получает возможность включиться в сам технологический процесс производства изделий и менять их художественную форму (разумеется, в определенных пределах) практически непрерывно, используя возможности гибкой технологии.
Можно с уверенностью утверждать, что в обозримом будущем при оснащении промышленности новой техникой возможности варьирования художественной формы изделий будут зависеть только от творческих потенций сферы дизайна. Новая технология будет постепенно предоставлять дизайнеру все большую творческую свободу в области художественного формообразования.
Короче говоря, недалек тот день, когда сдерживающим началом в области художественного разнообразия предметной среды станут не ограничения промышленной технологии, а уровень творческого потенциала сферы дизайна. Готовиться к этому этапу надо уже сейчас, психологически настраивая дизайнера на максимальное проявление личностного начала в художественных поисках.
И хотя столбовая дорога дизайна — это тесная связь с современной технологией и отказ от рукотворности, именно дизайн по праву можно считать творчеством будущего, так как здесь, пожалуй, раньше, чем в других областях, на базе максимального использования возможностей новейшей техники возрастет творческая часть работы проектировщиков, освобожденных от чисто технических операций. Резко сократятся сроки реализации образных идей в реальном изделии — дизайнер может быть включен в технологическую линию и непосредственно варьировать художественную форму изделий. Это вызовет спрос на дизайнеров, способных самостоятельно решать различные проблемы формообразования.
Разумеется, новая технология — это только технические средства. Никакие роботы и манипуляторы не заменят творческого вклада человека в создание удобной и художественно полноценной предметно-пространственной среды. Техника возьмет на себя всю рутинную часть проектной работы и многие внехудожественные процессы формообразования. раскрепостив художественно-творческий потенциал дизайнера. Внимание дизайнера будет сосредоточено на решении социально-художественных задач.
Судя по всему, дизайн и архитектура как сферы художественного творчества проходят сейчас архаическую стадию освоения формообразующих возможностей техники (и технологии). На этой стадии техника действительно сковывает формообразующие возможности дизайна и архитектуры, доводит стилистику предметно-пространственной среды до стерильности.
Есть два пути преодоления этой стерильности — уходить от технологии в рукотворность и в стилизацию (что продемонстрировал частично постмодерн) или же идти вместе с технологией и видеть ее будущие возможности. Второй путь логичнее — за ним будущее. Интенсивное освоение дизайнерами возможностей современной технологии приведет к тому, что будет возрастать степень свободы творчества дизайнера, в том числе в художественных вопросах формообразования.
Только пройдя через этап интенсивного освоения формообразующих возможностей современной техники и включив её в свою творческую палитру, дизайн сможет освободиться от диктата техники.



Добавить комментарий